Рожала я…
Тысячу раз я хотела написать о своих родах. Но для меня написать – значит заново пережить весь ужас тех дней. А я замирала от страха. Слезы душили, ком стоял в горле. Жизнь раскололась на два берега, я в утлой лодчонке отчаянно гребла посередине. Нет, увольте, не могла я выжать из себя ни капли строк. И только спустя время начала постепенно приходить в себя.
Начало.
Это началось на рассвете, когда сильнее всего хочется спать. Боль брала и отпускала, будто присматривалась ко мне, как настойчивая тетка в мясном отделе, бесцеремонно тыкающая вырезку на прилавке. «Раз могу уснуть, значит, еще рано», - решила я и забылась неглубоким сном. День прошел обычно, периодами похватывало, но терпеть еще были силы. К вечеру стало плотненько накрывать. Боль постепенно завоевывала мою территорию, наполняла меня тревогой – ситуацией я не владела вообще. Приехала «самая скорая помощь на свете». «Дотерпелась, сейчас в машине родишь, раньше нельзя было вызвать?», - угрюмо вещали люди в белых халатах. Если бы.
В больнице.
Раскрытие было всего 1 палец. Следующую ночь я провела в больнице. Уснуть не удалось: живот и поясницу крутило, в палатах выли роженицы. Утром прокололи пузырь, 4 пальца, мутные воды. Мне поставили вызывающую капельницу, и я в полной мере ощутила значение слова «схватка». На что она похожа? Где-то я читала про состояние, когда живот беспощадно крутит от незрелых слив, и кто-то очень добрый со всех сил дубасит по пояснице колотушкой. В моем случае это был, скорее лом. И он не отпускал, для того, чтобы нанести удар, он буквально разрывал меня на части. Точно меня подвешивают за живую плоть на стальной крюк как Остапа в последней экранизации «Тараса Бульбы». Я была уверена, что буду орать во всю Ивановскую и материться большим петровским загибом, но в родильном зале я начисто забыла значения всех матерных слов. И даже не кричала, а просто бессильно стонала и риторически вопрошала: «За что?». «Она еще философствует тут», - хмыкнули акушерки и влили мне очередную дозу окситоцина. Прозрачная трубка с иглой на конце ядовитой осой впивалась в мою вену и несла в себе адову боль. Мне хотелось вырвать ее с мясом из страдающего нутра, в клочья разнести родовую палату, побить окна и ни о чем не подозревавший мед.персонал, обыденно собравший консилиум по очереди смотреть мои внутренние органы. Почему я не сделала этого? Все было нереально, словно в тумане, а я – тем самым Ёжиком, потерявшим в сером смоге своего Медвежонка вместе с Лошадкой. Разве это я послушно садилась на кресло, отвечала на вопросы, прыгала на фитболе, дышала, как только могла? «Если хотите, можете кричать». А я наивно молилась, чтобы этот кошмар поскорее закончился. «Тихо тут у вас, будто и не рожает никто», - удивленно заглядывали мед.сестры. Как выяснилось, никто и не рожал: схватки были, раскрытия нет. «Толку с твоей родовой деятельности». Мне давали и час и два, «и дольше века длится день, и не кончается» страданье. Стрелки часов равнодушно путешествовали по циферблату. Экран доплера рябил показаниями, удары сердца становились реже или наоборот, зашкаливали. Когда цифры перестали отражаться, акушерки всполошились: начали елозить по животу, искать малышку, и - слава Богу - нашли. «Толку с твоей родовой деятельности». Вердикт: операция, окончательный, обжалованию не подлежит. Я дрожащей рукой подписала чертовы бумажки, бабуля-санитарка обмыла меня: «Дочка, ты же столько часов в родах!» и увезла в реанимацию.
Если...
Стояла небывалая жара. Солнце беспощадно заливало распростертую землю, отрады не было даже в тени. Я же в холодном ознобе расхристанная лежала на операционном столе как на заклание: руки разведены и привязаны ремнями, ноги закреплены. В зеркало большой ослепляющей лампы над головой смотрела, как мажут коричневой жидкостью мой живот. Словно луч света рассеял завесу тумана, в тот момент я в первый раз четко осознала неотвратимость пути: меня отключат, разрежут острым ножом-скальпелем, вывернут наизнанку. А что, если я не очнусь? Я исчезну, и меня больше не будет, как будто и не было вовсе. Неумолимое «никогда», отбирающее последнюю надежду, непроницаемая смерть, перед которой все равны. И тут мне на ум пришли все матерные слова на свете, но было слишком поздно. «Толку с моей родовой деятельности». Мысли кружили надо мной хищными стервятниками, не давая вырваться из душащего плена. Тогда я отчаянно постаралась запомнить эти последние минуты. Они и сейчас передо мной. Как на цветной кинопленке в 100 D формате жар светлой комнаты, четкие действия врачей, коридорный гул и шепот, бесстрастный взгляд медсестры, который я, казалось, прожгла насквозь. И вот всё исчезло, экран моего сознания погас. И больше не было родов, комнат, врачей, сверлящей мучительной боли, которую я так малодушно мечтала оборвать. Не было ничего. И, в сущности, меня тоже вдруг не стало. Несколько минут, а может, вечность. Из небытия, проводником с дальних станций параллельных миров, далекий мужской голос гласил: «У вас родилась дочка». Он вернул меня на землю. Я снова была. Я жива. Я есмь.
С возвращением, мама!
Возвращаться оказалось не так легко. Чувствовала себя Жанной Агузаровой: «пришла в себя с Марса, а там никого нет». Санитары ловко переправили меня на каталку, я внутренне сжалась от ожидания боли, но ничего не почувствовала, кроме давящего камня на пупке. Мне принесли кроху, она сверкнула на меня черными глазами – моя доченька! И я расплылась в улыбке, насколько мне позволял обнявший меня наркоз. При виде груди малютка оживилась и принялась на удивление ловко чмокать, добывать из меня питание себе. Счастье мое! Ты самое лучшее, что есть в моей жизни. Прости меня, теплый копошащийся сверточек, что не смогла, не слышала твоего первого крика, и тебя не сразу приложили к моей груди...
Когда в реанимации мне разрешили вставать, я поначалу бодренько поднялась с койки. Сделав один шаг, я пошатнулась. Закружилась голова, гул в ушах, по ногам зазмеились теплые вишневые струйки крови, вмиг наполнили белые тапочки, тошнотворной каруселью поплыли перед глазами белые больничные стены вперемешку с огромными окнами. Позже тапочки полетели в мусорное ведро, я не смогла их больше надеть.
К рентген-кабинету стекалась молчаливая цепочка рожениц. Было легко определить, кто родил естественным путем, кто кесарился. Одни шли в раскоряку, с трясущимися коленками и отмахивались от предложения сесть. Другие шли по стеночке, прижимая зашитый живот, и медленно стекали в кресла. Но были и третьи. В кабинет УЗИ легкой походкой вошла улыбающаяся девочка за справкой. Медсестра буднично спрашивала её метрические данные и машинально записывала в журнал. Но когда на вопрос: «Дата родов» девочка бойко ответила «сегодня», медсестра встрепенулась и оторвалась от бумаг: «Как сегодня? Во сколько?». «Полпервого»,- последовал ответ. Я посмотрела на часы – еще не было двух.
За время беременности я почти не поправилась. Операция выпила из меня последнюю кровь. Пришла кума навестить меня в роддоме. Веселая, стройная, загорелая. На меня пахнуло знойным дыханием яркого солнечного лета. В её расширенных от ужаса зрачках я увидела свое отражение: бледное бескровное тощее существо с перебинтованным шрамом – «улыбкой» во весь «рот». От меня, должно быть, веяло сизым могильным холодом…
«Как мало пройдено дорог…»
С тех пор прошло три года. Первое послеоперационное время вспоминаю себя в неизменной позе старухи Изергиль. Помню нехватку молока и борьбу за ГВ. Череду больниц, уколов, катетеров, бесконечные капельницы в тонкие вены-ниточки моей дочки. Страх всеобъемлющий, поглощающий, животный, липкое ощущение собственного бессилия перед недугом. Коленопреклонные молитвы, жаркие обеты Господу. Но было и другое. Вижу прохладный рассвет, когда с трудом отряхиваешь с себя сочные цветные сны, в спальню входит папа с дочкой на руках в позе Карлсона: «Мама, мы кушать хотим!». Вся жизнь будто заново, легким росчерком пера: первый лепет ласковым певучим голоском, первая кукольная обувь меньше ладони и нетвердые шаги с бабушкиной поддержкой. Всё повторилось: теперь уже не мама мне, а я - для дочки - читаю нараспев про дядю Степу, бубню заученное Барто, ловлю яркие огоньки смолистой рождественской елки, отраженные в восторженном девчачьем взгляде. Я рядом с ней и на пестром детсадовском утреннике: торопливое порхание балеток по паркету, стихи под скромные звуки пианино; и летним босоногим вечером на камнях у пенной кромки морской волны. Гляжу на нее и понимаю, что это я, тридцатилетняя женщина, чудесным образом снова стала маленькой тоненькой девочкой, что осталась там, в далеком пожелтевшем детстве. Она похожа на меня, но иная. Та, которую я полюбила. Та, которую я родила.
-
 123
123

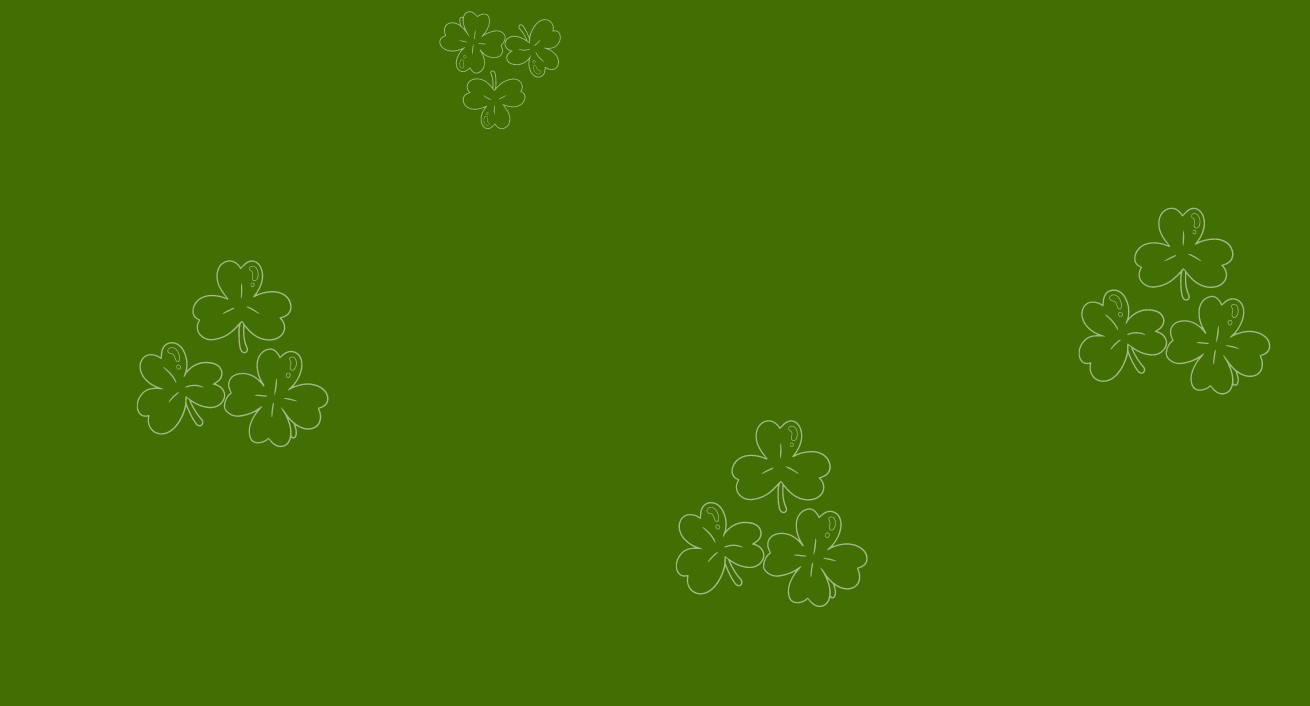








112 комментариев
Рекомендованные комментарии